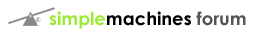1
Основной форум / Сведения из реальной истории
« : Сентябрь 11, 2018, 19:16:17 »
Приданое и формы владения имуществом.
В Х веке законодательно понятие «дом», «двор», «огнище» подразумевало все угодья, находящиеся в собственности и пользовании семьи, которая к этому времени стала малой, двух- или трехпоколенной. Само жилище принадлежало всем членам семьи пожизненно, являясь «страховкой» на случай инвалидности, потери кормильцев в старости и прочего, дабы пострадавший не остался без «крыши», «угла».
Приданое являлось собственностью женщины и своеобразным «страховым фондом», обеспечивающим ее существование в случае изменения ее социального положения.
Писаный закон утверждал право женщины на независимое владение имуществом, составлявшим приданое. Согласно судебников и «Устава Ярослава Владимировича» (XII – XIV вв.) право владения движимым имуществом распространялось на жен смердов и даже холопов. Для женщин указаны так же формы владения имуществом приобретенным на собственные доходы: «промыслы» и «прикупы». Так же в отдельную собственность женщин поступали подарки от родственников и наследство. В случае вдовства женщина получала часть совместно нажитого имущества, которое могла завещать по собственному усмотрению («Судебник Ярослава»).
Дочери получали свою часть наследства вне зависимости от их социального положения. Какой-либо обязательной разницы в объеме наследства между дочерями и сыновьями закон не обозначал.
Тот же «Устав» оговаривал штрафы с родителей, препятствовавших браку дочерей или выдававших их замуж насильно (если факт «несговора» выносился на суд).
Количество и характер личного имущества женщины зачастую обуславливал отношения в семье после ее замужества.
«Устав Ярослава» запрещал разводиться с женой, которую поразил «лихой недуг», слепота или «долгая болезнь». С больным мужем тоже нельзя было разводиться.
Документы эпохи после крещения указывают на попытки церкви отменить такие отношения. «Учительные изборники» прокламируют: «Женам глава муж, мужу – князь, а князю - бог». Священнослужители резко критиковали мужчин, оказавшихся «в обладании» у жен, называя их «мягкими, бесстыдными, раболикими, несвободными, косноязыкими» («Измарагд» XV в.Л. 83-83 об.). Женщин же, ставших главами семьи, называли «злыми женами».
Церковь старалась вмешиваться в личную жизнь, взяв на себя гражданское право. К ведению церкви относились семейные конфликты: «Аще бьет жена мужа митрополиту три гривны». Сохранилась жалоба некоей новгородской «вдовы нарочитой» на пасынка ее за побои. Церковь разбирала также совсем интимные дела. В частности, к детоубийству церковь приравнивала изгнание плода женщиной или нанесение вреда беременной, повлекшего выкидыш, со стороны мужа.
Также церковь осуществляла (во всяком случае, формально узаконивала) разводы – «роспусты». Законным поводом для развода были: доказанный факт прелюбодеяния, бездетность, материальная несостоятельность, разорение одного из супругов. Исключительно женшины могли пользоваться такими поводами как сокрытие низкого социального статуса (женщина в браке принимала статус мужа), недоказанное обвинение в «злом деле» (клевете, «наузничании» - колдовстве, воровстве, изведении плода, преследовании детей от другого брака и прочее).
При разводе женщина имела право на приданое в полном объеме и часть совместно нажитого имущества.
В случае вдовства при проживании в отдалении от прочих родственников женщина наследовала все имущество семьи в полной мере.
В средневековье данные законы распространялись на всех женщин вне зависимости от сословной принадлежности, за исключением рабынь. Рабыни не могли быть замужними, но их собственные доходы признавались за ними на правах девичьего приданого. При освобождении это скопленное имущество становилось основой их самостоятельной жизни.
В Московскую эпоху за половину столетия (с 1520 по 1570 годы) была издана целая серия указов, лишающих вдов и дочерей права распоряжаться вотчинной недвижимостью. Жалованные же за военную и государственную службу поместья полностью принадлежали помещику и могли передаваться исключительно наследникам мужского пола, также выполнявшим воинские или другие государственные обязанности. Дочери могли получить в приданое только ту недвижимость, что была специально куплена родителями. Так же и движимое имущество, входящее в приданое, являлось частью наследства родителей, поскольку женщины боярского и дворянского сословия не имели права вступать в какие-либо сделки.
Реально такие сделки заключались, но как бы от имени правообладателя.
Разводы стали практически невозможными, особенно по инициативе женщин. Единственным поводом для ухода из семьи стало монашество.
Изменение положения женщин неподатных сословий произошло в результате реформ Петра Великого. Было возвращено право самостоятельного управления наследственным имуществом, полученным в приданое. Вдовая бездетная или имеющая несовершеннолетних детей помещица получила право, лично не принадлежа к служилому сословию, после 1714 года, наследовать в полной мере имущество и распоряжаться им до совершеннолетия детей мужского пола. После этого совершеннолетия она получала часть имущества «в прожиточное».
Положение незамужних осталось почти прежним, кроме права на долю в наследстве.
Естественно, данные законы не могли изменить положения крестьянок и горожанок живущих своим трудом. Деревня практически продолжала в своих внутренних делах пользоваться обычным правом вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции.
Деление на мужские и женские работы оставалось условным, поскольку женщины были заняты в полевых работах, а «мущины» участвовали в уходе за скотом, огородных работах. В случае заболевания или отлучки жены при отсутствии дееспособных матерей или дочерей вынуждены были и «домовничать».
В северных, сибирских, казачьих районах мужчины умели даже прясть, ткать, плести, шить. А такие навыки как готовка и стирка, безусловно были необходимы каждому. В охотничьих и рыбацких артелях присутствие женщин не было обязательным, мужчины справлялись сами.
Соотвественно жены и дочери членов таких артелей в отсутствии мужчин управлялись со всем хозяйством от пахоты и ухода за скотом до ремонта жилища и утвари, торговли продуктами своего хозяйства и заключения долговременных сделок по найму на работу.
При крепостном праве полноценным «тяглом» считалась полная крестьянская семья. Но в случае смерти мужа государственные и барщинные обязанности возлагались на вдову и ее дочерей.
Самым низким статусом обладали невестки, вошедшие в «неразделенную» семью. Практически над ними главенствовали не только отец и мать мужа, но и неженатые братья и незамужние сестры мужа. Конфликты «молодух» с «деверьями и золовками» стали сюжетами народных песен и сказок.
Но даже в таком положении женщина сохраняла имущественные права на свое приданое и «приработок».
Приработком могли быть зерно или деньги, полученные при найме на работу в богатое хозяйство, за услуги сиделок при больных и детях, заработок кормилицы.
Еще одним источником личного дохода были «скопы». Яйца, молоко, масло «сверх того, что на стол» женщина имела право продать.
Образованию «скопов» способствовали летние церковные посты. При отсутствии холодильников долго сохранять такие продукты было невозможно, их так или иначе требовалось реализовывать.
Деньги, вырученные таким образом, женщина тратила на своих детей, свои личные нужды и откладывала на будущее.
В реализации девичьей добычи и женских «скопов» помогали «задруги».
«Задругой» называлось сообщество жителей деревни или города, объединенных возрастом, родом занятий и личными отношениями. Кроме девичьих и юношеских задруг сушествовали задруги женатых мужиков, замужних баб, вдов, охотников, мастеров. Из таких задруг формировались артели для работы по найму или охотничьи, рыболовческие.
Чаще всего скопленное или добытое продавали на базаре члены задруг, потом делили деньги «по паям» - по количеству переданного товара.
Приданое крестьянской девушки вплоть до революции состояло из скопленного ею за время девичества имущества, как и во времена Киевской и Докиевской Руси.
В возрасте 10-12 лет над крестьянской девушкой исполнялся обряд «вскакивания в поневу».
В избе собирались родственницы женского пола, выдворялись мужчины и дети. Мать доставала из сундука ею самой вытканную поневу в мелкую клетку. Родственницы растягивали полотно «кругом», слегка соединив концы «завязки». Девочка прохаживалась перед ними по лавке.
«Доча, вскочи!» - предлагала мать. Та же отвечала: «Хочу – вскочу; не хочу – не вскочу!». Если девочка прыгала в круг женщин, поневу на ней завязывали и объявляли «славницей» - к ней можно было свататься. Но до замужества оставались еще годы.
Если же девочка спрыгивала с конца лавки на пол, понева убиралась до следующего года, а она сама оставалась в детях. «Славница» получала право участвовать в девичьих посиделках, «игрищах» с парнями. Девочка продолжала «в палки играть и скакалки скакать», а в хороводы не приглашалась.
Главной задачей «славницы» становилось накапливание приданого. Она уже работала не на семью, а «на приданое». Все время после окончания огородных и полевых работ, дойки, помощи в стирке, готовке, уборке жилья принадлежало ей безраздельно.
Такая практика сохранялась в деревнях и в начале 20 века. Л. Толстой в «Рассказе крестьянского мальчика» описывает бедно живущую семью солдатки. Но упоминает, что «нянька» (старшая сестра рассказчика) собиралась замуж и «работала в свою долю». Правда, на скопленные деньги купила водки для встречи вернувшегося отца-солдата. Потратить часть приданого она могла только по собственной инициативе, даже мать не имела права ничего взять из «сундучка» без разрешения дочери.
Приданое крестьянки в основном состояло из лично изготовленного текстиля: белья, одежды, полотенец, «холстов». В северных и сибирских деревнях в приданое входила охотничья добыча.
Незамужняя девушка имела право принимать подарки от парней. Это не накладывало на нее никаких обязательств по отношению к дарителю.
В приданое также входили любые денежные заработки девушки. Собранные ягоды, грибы, орехи можно было продать «господам» (после отмены крепостного права), дачникам, на постоялый двор, в трактир или просто на базаре. Также она имела право продать «в свою долю» тканье, вышивки, кружева, шкурки добытых животных, свежую и сухую рыбу своего улова.
Владеющие каким-либо мастерством вроде гончарного, косторезного, скорняжного и прочих девушки продавали свои изделия.
Если девочку отдавали в няньки или служанки, заработанные ею деньги мать хранила до будущей свадьбы. Также заработок при найме на уборку, покос, прополку шел в ту же копилку.
В районах, не затронутых крепостным правом, родители могли выделить дочери жеребенка, теленка, несколько ягнят. Выращенные ею животные становились после свадьбы «обзаведением» молодой семьи.
Особо «статочные» семьи могли определить в приданое часть семейных угодий.
Количество и качество приданого определяли будущий статус девушки в ее семье. Богатая молодуха никоим образом не могла стать помыкаемой. Скорее она поднималась над другими снохами в «неподеленной» семье. «Бесприданница» занимала место общей служанки. Такое же низкое положение приобретали и ее дети, которым доставались самые худшие куски и обноски.
Если же муж выделялся из семьи родителей, он приносил свой «вклад», состоящий из скота, инвентаря и денег. Соответственно «конкурс имущества» во многом определял и «главу семьи». Подарки родственников молодоженам тоже отходили мужу или жене в зависимости от дарителя.
Накапливающееся в ходе совместной жизни имущество считалось общим, но находилось под управлением мужа. В случае смерти одного из супругов полностью переходило овдовевшему и составляло наследство их детей.
Девичьи посиделки были формой смотрин будущих невест. На них приглашались парни. Девушки обязательно брали на посиделки с собой «уроки»: кудель, нитки для вышивки или кружев. Там они демонстрировали друг другу и вероятным женихам свое мастерство. На «игрищах» девушки показывали свое здоровье, силу, ловкость, выносливость. Эти качества высоко ценились в деревенском быту.
Но роль приданого чаще всего была важнее здоровья и красоты.
В Х веке законодательно понятие «дом», «двор», «огнище» подразумевало все угодья, находящиеся в собственности и пользовании семьи, которая к этому времени стала малой, двух- или трехпоколенной. Само жилище принадлежало всем членам семьи пожизненно, являясь «страховкой» на случай инвалидности, потери кормильцев в старости и прочего, дабы пострадавший не остался без «крыши», «угла».
Приданое являлось собственностью женщины и своеобразным «страховым фондом», обеспечивающим ее существование в случае изменения ее социального положения.
Писаный закон утверждал право женщины на независимое владение имуществом, составлявшим приданое. Согласно судебников и «Устава Ярослава Владимировича» (XII – XIV вв.) право владения движимым имуществом распространялось на жен смердов и даже холопов. Для женщин указаны так же формы владения имуществом приобретенным на собственные доходы: «промыслы» и «прикупы». Так же в отдельную собственность женщин поступали подарки от родственников и наследство. В случае вдовства женщина получала часть совместно нажитого имущества, которое могла завещать по собственному усмотрению («Судебник Ярослава»).
Дочери получали свою часть наследства вне зависимости от их социального положения. Какой-либо обязательной разницы в объеме наследства между дочерями и сыновьями закон не обозначал.
Тот же «Устав» оговаривал штрафы с родителей, препятствовавших браку дочерей или выдававших их замуж насильно (если факт «несговора» выносился на суд).
Количество и характер личного имущества женщины зачастую обуславливал отношения в семье после ее замужества.
«Устав Ярослава» запрещал разводиться с женой, которую поразил «лихой недуг», слепота или «долгая болезнь». С больным мужем тоже нельзя было разводиться.
Документы эпохи после крещения указывают на попытки церкви отменить такие отношения. «Учительные изборники» прокламируют: «Женам глава муж, мужу – князь, а князю - бог». Священнослужители резко критиковали мужчин, оказавшихся «в обладании» у жен, называя их «мягкими, бесстыдными, раболикими, несвободными, косноязыкими» («Измарагд» XV в.Л. 83-83 об.). Женщин же, ставших главами семьи, называли «злыми женами».
Церковь старалась вмешиваться в личную жизнь, взяв на себя гражданское право. К ведению церкви относились семейные конфликты: «Аще бьет жена мужа митрополиту три гривны». Сохранилась жалоба некоей новгородской «вдовы нарочитой» на пасынка ее за побои. Церковь разбирала также совсем интимные дела. В частности, к детоубийству церковь приравнивала изгнание плода женщиной или нанесение вреда беременной, повлекшего выкидыш, со стороны мужа.
Также церковь осуществляла (во всяком случае, формально узаконивала) разводы – «роспусты». Законным поводом для развода были: доказанный факт прелюбодеяния, бездетность, материальная несостоятельность, разорение одного из супругов. Исключительно женшины могли пользоваться такими поводами как сокрытие низкого социального статуса (женщина в браке принимала статус мужа), недоказанное обвинение в «злом деле» (клевете, «наузничании» - колдовстве, воровстве, изведении плода, преследовании детей от другого брака и прочее).
При разводе женщина имела право на приданое в полном объеме и часть совместно нажитого имущества.
В случае вдовства при проживании в отдалении от прочих родственников женщина наследовала все имущество семьи в полной мере.
В средневековье данные законы распространялись на всех женщин вне зависимости от сословной принадлежности, за исключением рабынь. Рабыни не могли быть замужними, но их собственные доходы признавались за ними на правах девичьего приданого. При освобождении это скопленное имущество становилось основой их самостоятельной жизни.
В Московскую эпоху за половину столетия (с 1520 по 1570 годы) была издана целая серия указов, лишающих вдов и дочерей права распоряжаться вотчинной недвижимостью. Жалованные же за военную и государственную службу поместья полностью принадлежали помещику и могли передаваться исключительно наследникам мужского пола, также выполнявшим воинские или другие государственные обязанности. Дочери могли получить в приданое только ту недвижимость, что была специально куплена родителями. Так же и движимое имущество, входящее в приданое, являлось частью наследства родителей, поскольку женщины боярского и дворянского сословия не имели права вступать в какие-либо сделки.
Реально такие сделки заключались, но как бы от имени правообладателя.
Разводы стали практически невозможными, особенно по инициативе женщин. Единственным поводом для ухода из семьи стало монашество.
Изменение положения женщин неподатных сословий произошло в результате реформ Петра Великого. Было возвращено право самостоятельного управления наследственным имуществом, полученным в приданое. Вдовая бездетная или имеющая несовершеннолетних детей помещица получила право, лично не принадлежа к служилому сословию, после 1714 года, наследовать в полной мере имущество и распоряжаться им до совершеннолетия детей мужского пола. После этого совершеннолетия она получала часть имущества «в прожиточное».
Положение незамужних осталось почти прежним, кроме права на долю в наследстве.
Естественно, данные законы не могли изменить положения крестьянок и горожанок живущих своим трудом. Деревня практически продолжала в своих внутренних делах пользоваться обычным правом вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции.
Деление на мужские и женские работы оставалось условным, поскольку женщины были заняты в полевых работах, а «мущины» участвовали в уходе за скотом, огородных работах. В случае заболевания или отлучки жены при отсутствии дееспособных матерей или дочерей вынуждены были и «домовничать».
В северных, сибирских, казачьих районах мужчины умели даже прясть, ткать, плести, шить. А такие навыки как готовка и стирка, безусловно были необходимы каждому. В охотничьих и рыбацких артелях присутствие женщин не было обязательным, мужчины справлялись сами.
Соотвественно жены и дочери членов таких артелей в отсутствии мужчин управлялись со всем хозяйством от пахоты и ухода за скотом до ремонта жилища и утвари, торговли продуктами своего хозяйства и заключения долговременных сделок по найму на работу.
При крепостном праве полноценным «тяглом» считалась полная крестьянская семья. Но в случае смерти мужа государственные и барщинные обязанности возлагались на вдову и ее дочерей.
Самым низким статусом обладали невестки, вошедшие в «неразделенную» семью. Практически над ними главенствовали не только отец и мать мужа, но и неженатые братья и незамужние сестры мужа. Конфликты «молодух» с «деверьями и золовками» стали сюжетами народных песен и сказок.
Но даже в таком положении женщина сохраняла имущественные права на свое приданое и «приработок».
Приработком могли быть зерно или деньги, полученные при найме на работу в богатое хозяйство, за услуги сиделок при больных и детях, заработок кормилицы.
Еще одним источником личного дохода были «скопы». Яйца, молоко, масло «сверх того, что на стол» женщина имела право продать.
Образованию «скопов» способствовали летние церковные посты. При отсутствии холодильников долго сохранять такие продукты было невозможно, их так или иначе требовалось реализовывать.
Деньги, вырученные таким образом, женщина тратила на своих детей, свои личные нужды и откладывала на будущее.
В реализации девичьей добычи и женских «скопов» помогали «задруги».
«Задругой» называлось сообщество жителей деревни или города, объединенных возрастом, родом занятий и личными отношениями. Кроме девичьих и юношеских задруг сушествовали задруги женатых мужиков, замужних баб, вдов, охотников, мастеров. Из таких задруг формировались артели для работы по найму или охотничьи, рыболовческие.
Чаще всего скопленное или добытое продавали на базаре члены задруг, потом делили деньги «по паям» - по количеству переданного товара.
Приданое крестьянской девушки вплоть до революции состояло из скопленного ею за время девичества имущества, как и во времена Киевской и Докиевской Руси.
В возрасте 10-12 лет над крестьянской девушкой исполнялся обряд «вскакивания в поневу».
В избе собирались родственницы женского пола, выдворялись мужчины и дети. Мать доставала из сундука ею самой вытканную поневу в мелкую клетку. Родственницы растягивали полотно «кругом», слегка соединив концы «завязки». Девочка прохаживалась перед ними по лавке.
«Доча, вскочи!» - предлагала мать. Та же отвечала: «Хочу – вскочу; не хочу – не вскочу!». Если девочка прыгала в круг женщин, поневу на ней завязывали и объявляли «славницей» - к ней можно было свататься. Но до замужества оставались еще годы.
Если же девочка спрыгивала с конца лавки на пол, понева убиралась до следующего года, а она сама оставалась в детях. «Славница» получала право участвовать в девичьих посиделках, «игрищах» с парнями. Девочка продолжала «в палки играть и скакалки скакать», а в хороводы не приглашалась.
Главной задачей «славницы» становилось накапливание приданого. Она уже работала не на семью, а «на приданое». Все время после окончания огородных и полевых работ, дойки, помощи в стирке, готовке, уборке жилья принадлежало ей безраздельно.
Такая практика сохранялась в деревнях и в начале 20 века. Л. Толстой в «Рассказе крестьянского мальчика» описывает бедно живущую семью солдатки. Но упоминает, что «нянька» (старшая сестра рассказчика) собиралась замуж и «работала в свою долю». Правда, на скопленные деньги купила водки для встречи вернувшегося отца-солдата. Потратить часть приданого она могла только по собственной инициативе, даже мать не имела права ничего взять из «сундучка» без разрешения дочери.
Приданое крестьянки в основном состояло из лично изготовленного текстиля: белья, одежды, полотенец, «холстов». В северных и сибирских деревнях в приданое входила охотничья добыча.
Незамужняя девушка имела право принимать подарки от парней. Это не накладывало на нее никаких обязательств по отношению к дарителю.
В приданое также входили любые денежные заработки девушки. Собранные ягоды, грибы, орехи можно было продать «господам» (после отмены крепостного права), дачникам, на постоялый двор, в трактир или просто на базаре. Также она имела право продать «в свою долю» тканье, вышивки, кружева, шкурки добытых животных, свежую и сухую рыбу своего улова.
Владеющие каким-либо мастерством вроде гончарного, косторезного, скорняжного и прочих девушки продавали свои изделия.
Если девочку отдавали в няньки или служанки, заработанные ею деньги мать хранила до будущей свадьбы. Также заработок при найме на уборку, покос, прополку шел в ту же копилку.
В районах, не затронутых крепостным правом, родители могли выделить дочери жеребенка, теленка, несколько ягнят. Выращенные ею животные становились после свадьбы «обзаведением» молодой семьи.
Особо «статочные» семьи могли определить в приданое часть семейных угодий.
Количество и качество приданого определяли будущий статус девушки в ее семье. Богатая молодуха никоим образом не могла стать помыкаемой. Скорее она поднималась над другими снохами в «неподеленной» семье. «Бесприданница» занимала место общей служанки. Такое же низкое положение приобретали и ее дети, которым доставались самые худшие куски и обноски.
Если же муж выделялся из семьи родителей, он приносил свой «вклад», состоящий из скота, инвентаря и денег. Соответственно «конкурс имущества» во многом определял и «главу семьи». Подарки родственников молодоженам тоже отходили мужу или жене в зависимости от дарителя.
Накапливающееся в ходе совместной жизни имущество считалось общим, но находилось под управлением мужа. В случае смерти одного из супругов полностью переходило овдовевшему и составляло наследство их детей.
Девичьи посиделки были формой смотрин будущих невест. На них приглашались парни. Девушки обязательно брали на посиделки с собой «уроки»: кудель, нитки для вышивки или кружев. Там они демонстрировали друг другу и вероятным женихам свое мастерство. На «игрищах» девушки показывали свое здоровье, силу, ловкость, выносливость. Эти качества высоко ценились в деревенском быту.
Но роль приданого чаще всего была важнее здоровья и красоты.